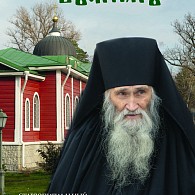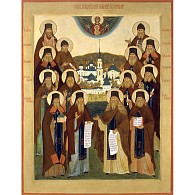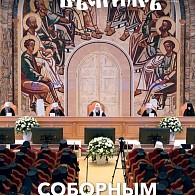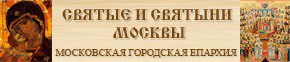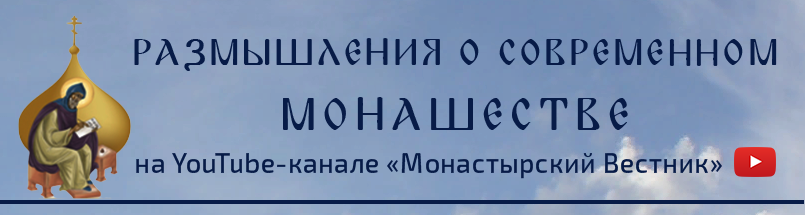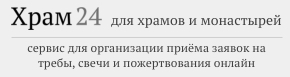Доклад епископа Можайского Иосифа, наместника Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина Пустынь на региональном круглом столе «Суть монашеского подвига в современном мире» для монашествующих уральских монастырей (Екатеринбург, Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь. 19 июня 2025 года)
Послушание святые отцы назвали такою добродетелью,
без которой никтоже из заплетенных страстьми
[не] узрит Господа [1].
Преподобный Макарий Оптинский
Послушание как основа монашеской жизни
Добродетель послушания является краеугольным камнем монашеского жительства и по праву занимает центральное место в аскетической традиции Православия. Как пишет схиархимандрит Софроний (Сахаров), «послушание есть духовное таинство в Церкви» и составляет саму сущность монашества: «Непослушник – не монах» [2]. Это и глубочайшее духовное делание, основанное на образе совершенного Послушника – Господа нашего Иисуса Христа, сказавшего: Не приидох да творю волю Мою, но волю пославшаго Мя Отца (Ин. 6:38). И апостол Павел напоминает нам, что Христос был послушлив даже до смерти, смерти крестной (Флп. 2:8). Все это делает послушание неотъемлемой чертой подражания Спасителю, путем спасения.
Обет послушания является одним из трех монашеских обетов, и зиждется на словах Спасителя: Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною (Мф. 16:24). Отвержение своей воли ради следования воле Божией составляет саму суть монашеского подвига.
Оптина пустынь стала лучшим монастырем России во многом благодаря тому глубокому и всестороннему пониманию послушания, которое насаждалось ее настоятелями и старцами. Здесь внешнее благочиние и неукоснительное следование уставу органично сочеталось с внутренним деланием – откровением помыслов старцам. Этот расцвет стал возможен благодаря уникальному сочетанию следующих факторов:
1. Мудрому руководству настоятелей. Игумен Моисей (1825–1862) и архимандрит Исаакий I (1862–1894) не только сами были подвижниками, но и всецело поддерживали традицию старчества, в том числе собственным примером.
2. Покровительству священноначалия. Основание Иоанно-Предтеченского скита – колыбели оптинского старчества – состоялось по инициативе и активном участии Калужского епископа Филарета (Амфитеатрова). Решающую поддержку основоположнику оптинского старчества преподобному Льву оказал великий святитель – митрополит Московский Филарет (Дроздов).
3. Духовному настрою братии. Настоятели и старцы смогли передать братии дух истинного смирения и послушания, которое воспринималось не как тягостная повинность, а как путь ко Христу через отсечение своей воли.
4. Духовно-просветительскому служению. Начатая старцем Макарием книгоиздательская деятельность, публикация святоотеческих творений привлекла к Оптиной внимание не только простого народа, но и ведущих представителей русской интеллигенции.
Исторические основы. Воспитание личным примером
Преподобный Лев: начало старчества
В духовном наследии оптинских старцев добродетель послушания занимает центральное место не как умозрительное учение, но как живой, деятельный опыт, передаваемый от наставника к ученику. Ключевая особенность оптинского старчества заключалась в том, что преподобные отцы воспитывали прежде всего своим примером.
Основоположник оптинского старчества преподобный Лев, начиная свой монашеский путь в Белобережской пустыни, «ревностно принялся… за монастырские труды, подавая братии пример послушания и трудолюбия» [3]. Однажды, когда клиросные братия из-за недовольства игуменом отказались совершать праздничную службу, настоятель, чтобы смирить самочинников и не уступать их требованиям, поручил это отцу Льву. Преподобный, весь день возивший с хутора сено, усталый и покрытый пылью, тотчас безропотно отправился в храм и вдвоем с другим братом пропел всю всенощную. Как отмечает И.М. Концевич, он «прошел искус обучения монашеским добродетелям: послушанию, терпению и всем внешним подвигам» [4]. Когда избирали нового настоятеля обители, отец Лев устранился от обсуждения, но выбрали именно его, и это решение братии будущий старец принял за послушание, как от руки Божией.
Когда один из учеников спросил старца: «Батюшка, как вы приобрели такие духовные дарования, какие мы в вас видим?» – преподобный отвечал: «Живи проще, Бог и тебя не оставит и явит милость Свою» [5].
Зная духовный опыт преподобного Льва и доверяя ему, настоятель пустыни преподобный Моисей сразу передал старцу духовное руководство братией. Пройдя долгий путь послушания у схимонаха Феодора (Пользикова), преподобный Лев был сторонником полного послушания и отсечения воли перед духовным наставником. Его слова: «Если спрашиваешь меня, то и слушать, а если не слушать, так и не ходить ко мне» [6]; «кто законно живет в послушании, тот от тризны послушания просвещается» – стали основой оптинской традиции.
Преподобный Макарий: мудрое руководство
Старец Макарий обладал редким даром находить подход к каждому человеку, понимать его характер и обстоятельства. Он чутко чувствовал возможности и меру каждого, проявляя строгость или утешение по потребности. При проявлении своеволия и непослушания говорил: «Делай как знаешь, но только смотри, как бы не случилось с тобою вот того-то» [7], – предостерегая от угрожавших самочиннику опасностей.
Будучи к моменту перехода в Оптину пустынь иеромонахом, духовником многих женских монастырей, отец Макарий предал себя в полное послушание старцу Льву, а тот сразу сделал его своим помощником. При этом старец постоянно подвергал своего ученика испытаниям, делал ему выговоры при многочисленных посетителях.
Однажды оптинский настоятель попросил отца Макария принять от пострижения в мантию некоторых братий, и преподобный воспринял это как повеление. Придя к старцу Льву, он услышал строгий выговор: «Что ж, ты и согласился?» – «Да, почти согласился, или, лучше сказать, не смел отказываться», – кротко ответил отец Макарий. «Да, это свойственно твоей гордости!» – возвысил голос старец и довольно долго укорял ученика. Тот только смиренно кланялся и повторял: «Виноват! Простите, Бога ради, батюшка!» А затем, поклонившись в ноги старцу, кротко спросил: «Благословите отказаться?» – «Как отказаться? Сам напросился, да и отказаться? Нет, теперь уже нельзя отказываться, дело сделано!» [8] – сказал старец, ведь целью выговора было искусить смирение ученика и этим преподать назидание многим.
Сам будучи истинным послушником, преподобный Макарий и своих чад учил «святому послушанию, блаженному послушанию», как он выражался в письмах. Подчеркивая взаимосвязь послушания с откровением помыслов, старец называл этот путь самым удобным в духовной жизни. В его обширном эпистолярном наследии детально разработано учение о послушании настоятельницам и старицам в женских монастырях, основанное на святоотеческом фундаменте и личном опыте.
Преподобный Амвросий: золотой век старчества
Время старчествования преподобного Амвросия справедливо называют «золотым веком» оптинского старчества. Возрастая духовно в полном послушании великим наставникам Льву и Макарию, отец Амвросий, как говорит его Житие, стяжал «всегдашнее смирение, беспрекословное послушание не только старцам, но и братиям».
Однажды старец Лев в присутствии многочисленного народа надел на голову молодому послушнику женскую монашескую шапку[9], пророчески указав на то, что в будущем ему предстоит много заботиться о монахинях.
Отец Амвросий получил благословение на духовное окормление братии, когда ему не было и сорока лет. Тяжелая болезнь, из-за которой он вскоре после рукоположения был выведен за штат, в результате чего не занимал никаких административных должностей в монастыре, стала проявлением воли Божией, призвавшей его к служению старчества.
Полувековое старчествование преподобного воспитало несколько поколений насельников Оптиной пустыни и многих женских обителей. Примечательно, что сам архимандрит Исаакий подавал братии пример послушания, не предпринимая без благословения старца никаких важных дел. Приходя в келью старца на исповедь, он вместе с другими братиями смиренно дожидался своей очереди, которая часто подходила нескоро.
Обладая мягким уступчивым характером, старец Амвросий советовал слушаться его наставлений сразу: «Когда я говорю, надо слушать с первого слова; тогда будет послушание по воле Божией. Я мягкого характера: уступлю, но не будет пользы для души» [10].
Старец Нектарий: утешитель и прозорливец
Старец Нектарий когда-то дал своему собрату преподобноисповеднику Никону замечательное наставление: «Нет ничего пагубнее для монаха, как устраивать свою жизнь по своему смышлению» [11], – передав этим всю суть монашеского жительства.
Различие во взглядах на послушание со святителем Игнатием (Брянчаниновым)
Это различие во взглядах проявилось не в отвлеченных богословских спорах, но в живом опыте людей, ставших впоследствии великими святыми нашей Церкви.
Оптинские старцы были воспитаны в полном послушании наставникам, тому же они учили и своих чад. Суровое воспитание проходил и будущий святитель Игнатий (Брянчанинов), который в первые годы иноческой жизни был послушником у преподобного Льва Оптинского. Старец впоследствии говорил с сожалением, что из молодого Брянчанинова мог бы получиться второй Арсений Великий. Однако будущий святитель, оставив Оптину, избрал самостоятельный путь монашеского делания.
Оптинский подход основывался на принципе полного послушания старцу, всецелого предания себя в руки наставника и упования на Божественную благодать, подаваемую за такое самоотвержение.
Святитель Игнатий, напротив, считал, что боговдохновенных старцев в его время уже нет, и потому следует жить по совету, руководствуясь Евангелием и чтением святых отцов.
Преподобный Амвросий указывал на неточность в понимании послушания святителем Игнатием. «Я всех его сочинений не читал, – писал старец, – а помню неточное приведение им мест из писаний святых отцов. Например, в “Добротолюбии” у Симеона Нового Богослова говорится в третьем образе внимания молитвы о послушании к старцу и духовному отцу, без которого неудобно спасаться молитвой Иисусовой; а преосвященный Игнатий отнес это к простому общему монастырскому послушанию» [12].
Это различие во взглядах на послушание и поныне вызывает дискуссии: возможно ли в наше время такое же полное старческое руководство, какое существовало в прежние времена, или же современные условия требуют более осторожного подхода, основанного на совете опытных наставников и руководстве Священным Писанием и святоотеческими творениями?
Тем не менее, оба пути дали Церкви великих святых, что свидетельствует о том, что Дух Святой действует через различные формы духовного руководства, сообразуясь с особенностями времени, места и устроением конкретных людей.
А вопрос о том, как оптинские преподобные рассматривали соотношение внешнего и внутреннего – послушания общемонастырского и послушания старцу – изучим более подробно.
Истинное послушание: единство внешнего и внутреннего
Старец Варсонофий, разграничивая внешнюю форму и подлинное, внутреннее монашество, писал: «Есть два монашества: внешнее и внутреннее... Внешнее... приобрести легко... но трудно сделаться внутренним монахом». Как утверждает старец, монах, довольствующийся лишь внешней формой, не обретает пользы: «Не всё монашество заключается в подряснике да каше. Надел подрясник, стал есть кашу, и думает: я теперь стал монах. Нет, одно внешнее не принесет никакой пользы. Правда, нужно и носить монашескую одежду, и поститься, но это – не всё! Лампа, пока не горит, не оправдывает своего назначения – светить. Пожалуй, ее кто-либо и толкнет, и разобьет в темноте. Чего же недостает? Огонька! Правда, необходим и фитиль, и керосин, но раз нет огня, если она не зажжена, она не приносит никому пользы. Когда же она зажжена, сразу польется свет. Так и в монашестве – одна внешность не приносит пользы, необходим внутренний огонек. Отец Анатолий [13] говорил, что монашество есть сокровенный сердца человек (1 Пет.3:4)» [14].
Точно так же и послушание, краеугольный камень монашеской жизни, имеет двусоставную природу, которая отражает природу человека, имеющего тело и душу.
Старец Макарий четко определяет первостепенную роль настоятеля в духовной иерархии монастыря: «По-настоящему начальник обители есть отец всех и попечитель о спасении душ, вверенных его пастве; а он уже поручает, по усмотрению своему, для окормления братии духовному старцу, одному или многим, по количеству общества. А сам он все-таки есть непосредственно отец и наставник всех» [15]. То есть, по мысли старца, настоятель не просто административный руководитель, но прежде всего духовный отец, несущий ответственность за души вверенной ему братии. Даже избрав себе помощников в деле духовного окормления братства, настоятель остается отцом и наставником для всех монахов без исключения.
Внешняя сторона послушания – его «тело» – включает в себя административное подчинение, точное следование монастырскому уставу, беспрекословное исполнение благословений настоятеля и добросовестное выполнение порученных дел. Это не просто строгая дисциплина, наподобие армейской, но та основа, на которой зиждется духовное возрастание монаха.
«Душа» послушания – его внутренняя сущность, точное определение которой дает преподобный Макарий Оптинский: «Послушание состоит не в том одном, чтобы укачествоваться в каком-нибудь деле, но в отвержении своей воли и разума и покорении оных другим» [16].
В одном из писем старца Амвросия мы находим важное замечание, свидетельствующее о тонком различении этих двух сторон: «ты ведь и сама знаешь, какое великое различие между тем и другим послушанием» [17]. Как видим, старцы учили этому и своих чад.
Что же происходит, когда «тело» послушания остается без «души»? Преподобный Иосиф дает на это исчерпывающий ответ: «Бывает же иногда так, что послушник в точности исполняет порученное ему дело и в то же время не имеет добродетели послушания. А бывает это тогда, когда он, аккуратно исполняя дело, ропщет, гневается и осуждает тех, которые поручили ему дело. В таком случае бывает только одно наружное послушание без внутреннего. Это все то же, что тело без души – гниющий зловонный труп» [18].
Таким образом, истинное послушание – это неразрывное, гармоничное единство внешних форм и внутреннего духовного содержания – «тела» и «души». Старец Иосиф формулирует золотое правило оптинского делания: «Должно соединять наружное послушание с внутренним, то есть принимать повеления от начальствующих как от Самого Господа и исполнять оные в простоте сердца, без гнева и ропота, хотя бы оно и противно было желанию и сердечному расположению послушника. Тогда и добродетель послушания появится» [19].
Духовные плоды послушания
Согласно духовному наследию оптинских старцев, послушание – корень, из которого произрастают важнейшие духовные плоды.
Смирение
Преподобный Макарий устанавливает прямую связь: «От послушания рождается смирение, а от самочиния – гордость; а плоды ее прелесть и смущение» [20]; «святые отцы все то, что делано было самочинно, огню предавали или скотам повергали» [21]. Искреннее послушание, по слову старца, наполняет всю повседневную жизнь монахов глубоким смыслом, духовными переживаниями, исполняет сердца ревностью к духовной жизни. При этом необходимо, учит преподобный, «чтобы всякое дело растворено было смирением: молишься ли ты, постишься ли… или исполняешь послушание, – все делай ради Бога» [22] .
А старец Амвросий выразил эту связь в знаменитой формуле: «Послушание и смирение – без труда спасение» [23]. За кажущейся простотой этих слов скрывается глубочайшая истина о том, что благодать Божия действует там, где человек отрекается от своей воли. Практически это выражается в совете старца: «Иди – куда поведут, смотри – что покажут, и все говори: да будет воля Твоя!» [24].
Отсекая свою волю, человек неизбежно сталкивается с внутренним сопротивлением и внешними досаждениями. Если «при оном случающиеся нам досады и укоризны принимаем без ропота, – наставляет старец Макарий, – но с самоукорением и познанием своей немощи, от чего наша самолюбивая часть укрощается, также и яростная изнемогает. А когда только питаемся мыслью, что мы проходим послушание, то больше еще гордостию обольщаемся, и вместо пользы вред получаем» [25]. Предостерегая от самочиния, преподобный советует вместо «мнимых подвигов и трудов черноработных и утруждающих отвергать свою волю и разум» [26].
Известное святоотеческое правило «знай себя – и будет с тебя» старцы учат применять и при исполнении послушаний: «Тебе поручено какое послушание – исполняй по силе, а в другое не мешайся, не входи ни с кем в суждения», что и как делается, иначе «сим и себя расстроишь, и тех, с кем говоришь. Дело ты исправить не можешь, а себя и другого можешь повредить» [27].
Рассуждение как высшая добродетель
Человеческий разум, помраченный страстями, не способен к духовному рассуждению. «От послушания и смирения рождается истинное рассуждение. А истинное рассуждение, по свидетельству всех святых отцов, выше всех добродетелей» [28], – говорит старец Амвросий. Через послушание опытным наставникам человек познает волю Божию, очищается от страстей и обретает духовное рассуждение.
Послушание как основание делания молитвы Иисусовой
Особое место в учении старцев занимает связь добродетели послушания с деланием молитвы Иисусовой. Преподобный Амвросий советовал «произносить молитву Иисусову со смирением» во всякое время – когда «человек идет или сидит, или лежит, пьет, ест, беседует, или занимается каким рукоделием» [29] и совершать все труды с памятью Божией, во славу Божию.
При этом он уточняет: «Сердечная молитва требует наставника… Устную молитву как бы кто ни проходил, не было примеров, чтобы впадал в прелесть вражескую. А умную и сердечную молитву проходящие неправильно нередко впадают в прелесть вражескую» [30]. Старец Макарий отмечает, что на обучение молитве Иисусовой «требуется много времени, подвига и труда, и наставника непрелестного» [31], убеждает иметь к наставнику (старцу, старице) веру и открывать ему помыслы, проявлять к нему послушание, предупреждает, что без наставника нельзя заниматься умной и сердечной молитвой [32].
Преподобный Амвросий объяснял, что для преуспеяния в молитве нужно помнить: «если кто принуждает себя к молитве… а к смиренномудрию, к любви, к кротости и к прочим добродетелям не приневоливает и не нудит себя в той же мере, то бывает иногда к нему Божия благодать по его молитве и прошению, потому что благ и милостив Бог, и просящим у Него дает просимое. Но, не приуготовив и не приучив себя к исчисленным выше добродетелям, или утрачивает он милость Божию, или приемлет и падает, или не преуспевает от высокоумия, потому что не предает себя от всего произволения заповедям Господним» [33].
Итак, по мнению старцев, ключ к преуспеянию в молитве лежит в соблюдении заповедей Божиих, и прежде всего в послушании духовному наставнику. Фундамент молитвы – покаяние, послушание и смирение. Без него труды молитвенника тщетны.
Сердцевина послушания – откровение помыслов
Постижение науки послушания раскрывалось у Oптинских старцев в живой практике духовного руководства, центральное место в которой занимало откровение помыслов.
Именно откровение помыслов «одушевляет» внешнее послушание. Наглядную иллюстрацию механизма духовной брани, а также силы и действенности откровения приводит старец Варсонофий: «Враг начинает с невинных вещей, завлекает в грехи. Подымет головную боль, да и скажет, что надо пройтись, – голова и пройдет; ибо душа наша может слышать слова бесов. Пойдет из келлии по Скиту, подойдет к воротам: почему не выйти? Выйдет. Смотрит: лужайка, скамейка. Почему не посидеть, здесь очень хорошо. Сядет, понравится ему здесь. И на следующий день выйдет, и каждый день начнет ходить. Выходит, садится там однажды, и вдруг подходит девочка, начинает заговаривать с ним, он отвечает. Познакомились. Вот и идет к себе в келью и думает: что же это я делаю? Опомнился, идет к старцу и кается. Старец говорит: “Да, это нехорошо, больше не ходи туда; если встретишь где-либо, не кланяйся”. Тот слушается старца, и весь злой план диавола рушится. А план был таков, чтобы свести их вместе, чтобы она забеременела и родила, принудила его выйти из монастыря и жениться», а в конечном итоге привести к тому, чтобы «пропали, погибли бы три души». Поэтому, заключает старец, «враг и ненавидит старчество, ненавидит место откровения помыслов, самый голос, которым это говорится» [34].
Показательный случай приводит в Дневнике преподобный Никон Оптинский: «Недавно к Батюшке пришел исповедоваться и побеседовать монастырский иеродиакон отец Варсис. После исповеди он Батюшке и говорит: “Благословите, Батюшка, буду к Вам ходить...” – “Да ты ведь и так ходишь?” – “Нет, Батюшка, ходить на откровение помыслов; я их никому никогда не открывал. А теперь иногда спрошу что-либо у старших, – они смеются. Вот я и решил просить у Вас благословения ходить к Вам на откровение помыслов”» [35].
Отец Варсис, как мы видим, был внешне исправным монахом. Исполняя устав, он оказывал старцу административное послушание как скитоначальнику, приходил к нему на исповедь. Но при этом «тело» его послушания было лишено «души», ведь он скрывал свои помыслы. Просьба благословить его на откровение – это начало духовного перерождения, желание перейти от внешнего, формального к внутренней духовной жизни.
Вера и доверие – условие действенности духовного руководства
Польза от наставлений напрямую зависит от веры вопрошающего. Старец Антоний говорил: «Когда кого вопрошают, то по мере веры получают и пользу; кто приходит с малою верою, получает малую пользу, а кто с великою – великую. Случалось и мне вначале спрашивать старца, как бы искушая: что-то он на это скажет? Ну уж и ответы такие выходили. А если положишь на сердце, что услышишь от старца ответ Бога Самого, то и Бог известит, и совсем человек другой станет, и услышишь, чего не ожидаешь» [36].
Старец Нектарий так определял основу духовных отношений: «На вопрос мой об этом духовный отец мой, иеромонах Анатолий, отвечал, что… если он относится к другим не с такой любовью, как ко мне, то это происходит от недостатка в них веры и любви. Как человек относится к старцу, так точно и старец относится к нему» [37].
Вера и доверие ученика открывают простор действию благодати Божией через наставника. Преподобный Макарий писал: «К кому иметь сие отношение [откровение помыслов], должна каждая из вас явить свою веру и сердечное расположение. По сим качествам дарует Бог и слово, и утешение, и развязку в недоумении» [38].
Преподобный Нектарий всю жизнь хранил апостольский завет: Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно (Евр. 13:17). Наставляя духовных чад, говорил, что старец и его действия не подлежат суду учеников, а благословения его должны приниматься без всяких рассуждений. Рассказывал, как еще при жизни своей явился ему во сне старец Анатолий (Зерцалов) и грозно сказал: «Никто не имеет права обсуждать поступки старцев, руководствуясь своим недомыслием и дерзостью. Старец за свои действия дает отчет только Богу, значения их мы не постигаем» [39].
Когда старца Нектария спросили, не возмущался ли он против своих учителей, тот ответил: «Нет! Мне это и в голову не приходило. Только раз провинился я в чем-то и послали меня к старцу Амвросию на вразумление. А у того палочка была. Как провинишься, он и побьет... А я, конечно, не хочу, чтобы меня били. Как увидел, что старец за палочку берется, я бежать, а потом прощения просил» [40].
Опыт Тихоновой пустыни
Иеромонах Геронтий, духовный сын преподобного Льва, возглавив Тихонову пустынь, с благословения старца начал насаждать там откровение помыслов, требовал от братии полного послушания себе как настоятелю и старцу. Однако, обладая неуравновешенным характером, он не мог нести откровения, говоря: «Придет кто-либо из братий для откровения своих помыслов, избранит-избранит тебя всячески – и это у него откровение» [41].
По словам преподобного Льва, в деле откровения многое зависит от самого старца – один может смущаться помыслами братии, а другой спокойно разъяснит вражий помысел чаду и тем посрамит диавола [42]. Он предупреждал отца Геронтия: «Отец строитель, берегись ты яростной части, а то повредишь себе неисцельно» [43]. То есть, духовному наставнику необходима духовная зрелость и трезвость.
Однако обоюдное смущение настоятеля и братии только возрастало, и старец был вынужден разрешить относящимся к нему братиям уклоняться от откровения помыслов игумену, хотя внешнее послушание ему они оказывали беспрекословно [44].
Данный случай свидетельствует о том, что административная власть и духовный авторитет могут сочетаться в одном лице не всегда, однако основы монастырской дисциплины и послушания настоятелю должны оставаться незыблемыми.
Особенности послушания в женских обителях
Оптинские старцы уделяли особое внимание духовному окормлению женских монастырей, где традиция старчества складывалась постепенно и имела свои характерные черты.
Становление традиции
Первопроходцем в деле насаждения старчества в женских обителях стал преподобный Лев, который действовал с присущим ему дерзновением. В те времена древняя традиция старчества была почти забыта, поэтому старцу приходилось сталкиваться с противодействием настоятельниц. Показательна история матери Анфии (Кононовой) из Белевского монастыря, которую старец благословил принимать сестер на откровение помыслов. Игумения Епафродита, не понимая сути этого духовного делания и считая его опасным новшеством, добилась через тульского архиерея лишения инокини рясофора и изгнания ее из обители в 1841 году. Однако впоследствии мать Анфия была полностью оправдана и возвращена в монастырь.
Благодаря мужественному дерзновению старца Льва, а также действенной помощи его ближайшего ученика и преемника старца Макария, в женских монастырях, находившихся под их окормлением, спасительная традиция старчества была восстановлена. Преподобный Макарий продолжил дело своего наставника, придав учению о послушании старицам систематический характер и прочный святоотеческий фундамент.
Основы послушания игумениям и старицам
Преподобный Макарий точно определил суть правильного отношения к настоятельнице: «Ваше дело повиноваться с любовию; ибо на ней лежит вся обязанность и ответственность монастыря и всех вас; а вы в стороне, каждая пекись о себе, а она о всех вас» [45]. А старец Иосиф сформулировал общее правило: «В обители сестры ничего не должны делать без благословения настоятельницы» [46].
Таким образом, согласно учению оптинских старцев, настоятельница монастыря является центральной фигурой духовной иерархии обители – матерью, начальницей и наставницей всех монахинь.
Откровение помыслов игумениям и старицам
Главным условием монашеского преуспеяния инокинь старец Лев считал отсечение воли пред игуменией и откровение помыслов: «Аще хощеши исцелети, всячески старайся пред Матушкою отсекать свою треклятую волю во всем. Аще что и помни́тся тя быти полезное – и сие по ее воле отсекай, и вскорости исцелеешь от душетленной сей немощи… Не укосневай открывать все от врага всеваемые помыслы – и сие ко исцелению тебе послужит» [47].
«Касательно откровения матушке Игумении, – учит старец Макарий, – ты должна это делать с свободою без всякой боязни, и идти помолясь Богу. И что Господь возвестит, принимать с верою сказанное». Разрешая обращаться к нему письменно, старец советует инокине открывать помыслы своей настоятельнице: «Не думай, чтобы я тебя отвергал, советуя ходить к Матушке… где ж тебе искать подкрепления, как не у ней. До меня далеко, а надобно скорого решения… Ко мне же все можешь писать, что хочешь, а присылать не с почтой» [48].
Старцы всячески старались поддерживать и авторитет духовных наставниц, которым благословлялось принимать сестер на откровение помыслов. Преподобный Иосиф писал: «Матери казначее все открывай и во всем ее слушайся, ибо это послушание и есть основание всего монашеского жительства» [49]. «Никогда не скрывай от старицы, – учил преподобный Макарий новоначальную сестру, – ни чувств, ни мыслей твоих, хотя и строго взыщет. Откровение тебя укрепит и освободит от страстей, а сокрытие, напротив, побеждению предает» [50].
Согласно наставлениям преподобных, старицы должны были принимать сестер на откровение только с благословения игумении. Так, преподобный Иларион предупреждал: «без благословения матушки игумении никого к себе не принимать, в противном случае можно навлечь на себя большие скорби». А испрашивать благословения он советует с важной оговоркой, что «ты и сама в данном деле мало что знаешь и неопытна» [51].
Итак, игумения может благословить некоторых опытных монахинь в помощь себе для руководства сестрами, но при этом остается матерью и наставницей для всех сестер обители, в том числе и назначенных ею стариц.
У старца Макария встречаем еще одно важное наставление. Он пишет об одной сестре, что ей полезнее открывать помыслы игумении, а не старице: «…лучше пусть матушке Игумении открывает. Это ей полезно. Тебе она говорит просто, без стыда, а там со стыдом. А стыд имеет действо и наказание за грехи, и впредь от них уклонение» [52]. Здесь старец указывает на то, что духовная власть и авторитет игумении создают ту атмосферу, в которой откровение помыслов станет более действенным, и сестра будет серьезнее относиться к своим греховным поползновениям.
Поскольку в женских обителях духовниками часто были белые священники, которые не могли глубоко понимать монашескую жизнь, старец Иосиф советует открывать помыслы духовной матери: «Помыслы лучше открывать матери духовной, она больше понимает в этом деле, нежели священник» [53].
Предпочтение несовершенного послушания самочинию
Монахине, которая жаловалась на духовное одиночество после того, как «не хотела понять и оценить, имея близ себя старицу по благословению покойнаго отца Макария» и оправдывала себя тем, что та была строга, преподобный Амвросий ясно выразил духовную истину: лучше иметь несовершенную наставницу, чем оставаться без духовного руководства. Напомнив слова преподобного Иоанна Лествичника: «кто склонен к гордости и самочинию... тот должен избрать себе наставника строгого и непопустительного», старец писал: «Тебе многократно было говорено: покорись, и получишь пользу душевную. Но ты пребыла непреклонна и даже наконец сопротивлялась наставнице, с досаждением и негодованием… Своя воля и учит и мучит; сперва помучит, а потом чему-нибудь и научит… Ты прежде не хотела покоряться и как должно относиться к дельной и благословенной наставнице, а теперь нужда научила и возбудила в тебе желание относиться хоть к какой-нибудь старице, или иметь собеседником дельную сестру» [54]. Только испытав «горькие плоды самоверия и непокориваго разумения», душа начинает ценить благо послушания.
Старец объясняет монахине последствия ее выбора: отказавшись от строгой, но опытной наставницы, она оказалась в духовном одиночестве, которое неизбежно питает «самомнение, гневливость и осуждение других».
Монахиню, у которой взаимоотношения со старицей складывались непросто, старец преподобный Амвросий учил, что от духовной матери «уклониться совсем нельзя, так как ты связана с нею пострижением». Говоря о пути прохождения послушания в сложных обстоятельствах, он советовал: «Ходи к ней со смирением, как бы тебя ни принимала... Ходи и спрашивай. Скажет: как знаешь, – и делай, как разумеешь. А все-таки спрашивай. Может быть, иногда и скажет прямо. Знай, что смирение всё преодолевает и всё может изгладить и уравнять». Если «иметь страх Божий и действовать по совести, тогда силен Господь известить сердце восстающих». Скорбь и утеснение от духовной матери преподобный советует переносить без самооправдания: «Хотя мы пред людьми, может быть, и правы в чем-нибудь, но когда неправы пред Богом, то должны переносить всякое злострадание… никого из людей не обвиняя в этом, но принимая все скорби, как посланныя от руки Божией к очищению грехов наших, к исправлению нашему, и больше всего к смирению возносительного мудрования нашего. Поэтому повторяю тебе, чтобы ходила ты к матери со смирением хоть по временам; со смирением говори ей, что нужно; со смирением принимай сказанное тебе от нее, как бы сказано ни было. Смирение и страх Божий всякие неудобства препобеждают, хоть бы и больше тех, которые ты высказала» [55].
Несомненно, исполнение этих старческих советов требовало мужества и духовной зрелости. Такой подход основывался на глубоком понимании того, что само обращение к старице смиряет и препятствует развитию самочиния.
Рассуждение как венец послушания
В письмах старцев мы находим и случаи, которые, казалось бы, противоречат общему правилу. Один из примеров – письмо старца Амвросия монахине Афанасии.
«Пишешь, что матушка игумения приглашает и убеждает тебя быть письмоводительницею. Но удобно ли это будет и кстати ли? Ты была уже казначеей и давно отказалась и жила на покое по старости и слабости, как же теперь исправлять должность письмоводительницы? И тем более, что во взглядах на вещи вы не сходитесь. Кроме душевнаго томления тут ничего полезнаго предвидеть нельзя. Впрочем, действовать тут нужно поискусней, чтобы резким отказом не огорчить мать игумению, а понемногу уклоняться и отказываться старостию и слабостию… Отнекивайся, насколько будет возможно… Помози тебе Господи умудряться во спасение» [56]. Старец проявляет здесь высшую из добродетелей – духовное рассуждение. Зная устроение своей духовной дочери, ее жизнь, а, главное, отмечая, что «во взглядах на вещи вы не сходитесь», он подходит к ситуации с позиции духовной пользы. Старец Амвросий видит дальше игумении – он понимает, что данное послушание лишь усугубит имеющиеся сложности в отношениях и принесет «душевное томление», поэтому благословляет уклоняться и умудряться, навыкать духовному рассуждению. Оберегая авторитет игумении, не критикуя ее решение и не подрывая ее власть, он учит монахиню действовать «поискуснее», тактично и с уважением к настоятельнице. Учит не лукавить, но мотивировать отказ объективными причинами – старостью и слабостью.
Как видим, для оптинских старцев истинное послушание не есть слепое исполнение любых требований. В каждом конкретном случае они искали волю Божию и смотрели прежде всего на душу человека. Случай с монахиней Афанасией показывает высшую степень оптинской «духовной педагогики»: сочетание глубокого уважения к церковной иерархии с мудрым пастырским рассуждением.
Непослушание: опасности и последствия
История монахини Тавифы
Трагическим примером последствий самочиния служит история монахини Тавифы (Варпаховской), насельницы Борисовской Тихвинской пустыни. Находясь более двадцати лет под руководством оптинских преподобных – сначала Льва, потом Макария, она регулярно открывала помыслы старцам, встречалась с ними лично и усердно занималась молитвой. При этом, несмотря на внешнее благочестие, она обладала дерзким характером. Будучи наставницей для других сестер, она учила их откровению помыслов и послушанию, но сама «потчевала дочек чортом да кулаком», не терпела укоризн.
Старец Макарий увещевал ее, что она напрасно ищет высокого: «Пишешь, что желаешь истинной сердечной молитвы. Разве ты не читала, что сей сподобляются только редкие и из тех, которые идут правильным путем благочестия и во глубоком смирении… Позволяется [сердечная молитва] и новоначальным, но таким, которые живут совершенно под руководством и в полном отсечении воли своей, и притом… чтобы не молитвы сердечной и высокой достигать, но молитвою сердце очищать от страстей» [57].
Однако мать Тавифа не слушала старца. В ответ он получал только возражения и новые аргументы в пользу правильности избранного пути. Открывая помыслы, она не считала себя виновной, оправдывала свои поступки. Последствием стала прелесть.
У монахини начались бесовские видения. «Представляется тебе, что тебя лечат, тогда как никто и ничем тебя не лечит, кроме бесов, которые врачуют тебя по-своему за то, что много о себе думала, а других уничижала, – писал ей старец Макарий. – Ты ощущаешь то жар, то холод, между тем как другие, при тебе находящиеся, ничего подобного не ощущают… Бесы ругаются над тобою за обольщение твое, за то, что искала выше меры своей, а пренебрегала возможное для тебя и самонужнейшее, т. е. хранение заповедей Божиих и смирение» [58].
Вместо Иисусовой молитвы старец благословил ей читать кафизмы и каноны, но, даже будучи в критическом состоянии, мать Тавифа обвинила преподобного Макария, что он предал ее сатане. Итог был печален: она скончалась в помешательстве ума.
Эта история показывает, что делание молитвы и откровение помыслов даже великому старцу будут бесполезны при отсутствии послушания и понуждения себя к соблюдению заповедей Христовых.
История отца Венедикта
Преподобный Никон в беседе с духовными чадами рассказал случай, переданный ему старцем Нектарием. Однажды скитской библиотекарь отец Венедикт (Дьяконов) обнаружил рукопись, в которой его особенно поразило слово епископа Калужского Григория о послушании. Вскоре сам епископ, приехав в Оптину, предложил ему принять должность инспектора или директора семинарии. Но отец Венедикт категорически отказался, «начал кланяться и говорить, что он не может. Долго уговаривал его епископ, но отец Венедикт все на своем стоял, все просил не назначать его, на колени становился». Епископ, видя такое упорство, сказал: «Невольник – не богомольник», – и уехал.
Прошли годы, отошли ко Господу старцы Амвросий и Анатолий (Зерцалов), старцем избрали отца Иосифа, а отец Венедикт «остался в тени. Посетили его скорби, какие и по какой причине – я этого не знаю, – говорил отец Никон. – Во время этих скорбей он стал унывать, не выдержал и написал своему родственнику в Святейший Синод, что ему трудно и хотелось бы занять какую-нибудь должность и перевестись». Когда был получен указ о назначении отца Венедикта архимандритом в Боровский монастырь, он «моментально собрался и уехал в Боровск. И вот, чего он не хотел сделать за послушание, то охотно сделал по самочинию» [59].
Преподобный Никон делает из этой истории глубокий вывод: «Тогда он отказывался, но все равно ему пришлось исполнить. А может быть, и скорби на него нашли поэтому» [60]. И прибавляет: «Я решил идти путем послушания... И после такого решения я делал только то, что мне скажут, и был спокоен, и хотел бы такое настроение иметь всегда. Мне сказали: из скита переходи в монастырь, и я перешел, хотя мне этого не хотелось. И вообще всё, что бы мне ни сказали, я исполнял» [61].
***
Учение Оптинских старцев о послушании – это цельная система духовного воспитания, где послушание является не самоцелью, а средством для отсечения греховной воли падшего естества и соединения с волей Божией. Словно от одной свечи зажигалась другая, в Оптиной пустыни передавалась живая традиция истинного послушания, это было подлинное преемство духа. Преподобные отцы на личном опыте познали спасительные плоды нелицемерного и полного послушания: смирение, духовное рассуждение, победу над страстями, обретение внутреннего мира – и достигли обожения. Их пример является главным уроком и непреходящим наследием Оптиной пустыни, показывающим, что святое послушание есть надежнейший путь к стяжанию благодати Святого Духа.
-----------------------------
[1] Собрание писем преподобного Макария Оптинского к монахиням. В 4 т. Т. 1. – Козельск: Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, 2019. С. 206.
[2] Софроний (Сахаров), схиархим. Старец Силуан Афонский. М., 1996. С. 107.
[3] Преподобные Оптинские старцы. Жития и наставления. Изд. 2-е. Свято-Введенский монастырь. Оптина пустынь, 2004. С. 36.
[4] Концевич И. М. Оптина пустынь и ее время. Оптина пустынь, 2008. С. 119.
[5] Агапит (Беловидов), схиархим. Житие Оптинского старца Льва. Оптина пустынь, 2017. С. 81.
[6] Агапит (Беловидов), схиархим.Житие оптинского старца Льва. Козельск: Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, 2017. С. 72.
[7] Агапит (Беловидов), схиархим. Житие оптинского старца Макария. Козельск: Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, 2017. С. 152.
[8] Агапит (Беловидов), схиархим. Житие оптинского старца Макария. Козельск: Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, 2017. С. 79.
[9] Агапит (Беловидов), схиархим. Житие оптинского старца Амвросия. Оптина пустынь, 2019. С. 59.
[10] Собрание писем Оптинского старца Амвросия. Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, 2012. С. 418.
[11] История одной старушки. Оптина пустынь, 2024. С. 416.
[12] Собрание писем Оптинского старца Амвросия. С. 682.
[13] Т.е. прп. Анатолий (Зерцалов).
[14] Дневник послушника Николая Беляева (преподобного оптинского старца Никона). Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, 2010. С. 146–147.
[15] Собрание писем преподобного Макария Оптинского к монахиням. Т. 3. С. 145.
[16] Душеполезные поучения преподобного Макария Оптинского. Оптина пустынь, 2009. С. 450.
[17] Собрание писем Оптинского старца Амвросия. С. 682.
[18] Преподобный Иосиф Оптинский. Жизнеописание. Наставления. Письма. – Оптина пустынь, 2023. С. 363–364.
[19] Там же. С. 364.
[20] Собрание писем преподобного Макария Оптинского к монахиням. Т. 3. С. 406.
[21] Душеполезные поучения преподобного Макария Оптинского. С. 570.
[22] Там же. С. 700.
[23] Собрание писем Оптинского старца Амвросия. С. 65.
[24] Агапит (Беловидов), схиархим. Житие Оптинского старца Амвросия. С. 167.
[25] Собрание писем преподобного Макария Оптинского к монахиням. Т. 1. С. 280.
[26] Собрание писем преподобного Макария Оптинского к монахиням. Т. 3. С. 406.
[27] Собрание писем преподобного Макария Оптинского к монахиням. Т. 1. С. 250.
[28] Собрание писем Оптинского старца Амвросия. С. 65.
[29] Там же. С. 387.
[30] Там же. С. 679.
[31] Собрание писем преподобного Макария Оптинского к монахиням. Т. 3. С. 41.
[32] См.: Собрание писем преподобного Макария Оптинского к мирским особам. / [сост. С.О. Захарченко] ; Т. 1 [А–И]; Т. 2 [К–С]; Т. 3 [С–Я] – Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Петрозаводский гос. ун-т. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2010. [Т. 1] С. 187, 566. [Т. 3] С. 41 и др.
[33] Собрание писем Оптинского старца Амвросия. С. 663–664.
[34] Дневник послушника Николая Беляева (преподобного Оптинского старца Никона). Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина Пустынь, 2010. С. 67.
[35] Там же. С. 204.
[36] [Электронный ресурс] URL: https://azbyka.ru/otechnik/prochee/besedy-velikih-russkih-startsev/11.
[37] Житие иеросхимонаха Нектария. Введенская Оптина пустынь, 1996. С. 46.
[38] Собрание писем преподобного Макария Оптинского к мирским особам. Т. 1. С. 426.
[39] Житие иеросхимонаха Нектария. Введенская Оптина пустынь, 1996. С. 17–18.
[40] Там же. С. 18.
[41] Агапит (Беловидов), схиархим. Житие Оптинского старца Льва. С 233.
[42] Там же. С. 183.
[43] Там же. С. 222.
[44] Там же. С. 235.
[45] Собрание писем преподобного Макария Оптинского к монахиням. Козельск: Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, 2019. Т. 2. С. 419.
[46] Собрание писем Оптинского старца Иосифа. Свято-Введенская Оптина пустынь, 2005. С. 684.
[47] ОР РГБ. Ф. 213. К. 75. Ед. хр. 2. Л. 13 об.
[48] Собрание писем преподобного Макария Оптинского к монахиням. Т. 1. С. 73.
[49] Собрание писем Оптинского старца Иосифа. С. 349–340.
[50] Там же. С. 287.
[51] Письма преподобного Оптинского старца иеросхимонаха Илариона. – Оптина пустынь, 1998. С. 81–82.
[52] Собрание писем преподобного Макария Оптинского к монахиням. Козельск: Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, 2019. Т. 2. С. 28–29.
[53] Там же. С. 397.
[54] Собрание писем Оптинского старца Амвросия. С. 368.
[55] Там же. С. 432–433.
[56] ОР РГБ. Ф. 213 К. 54. Ед. хр. 5.
[57] Собрание писем преподобного Макария Оптинского к монахиням. Т. 3. С. 457.
[58] Там же. С. 462.
[59] История одной старушки. С. 416–417.
[60] Там же. С. 416–417.
[61] Там же. С. 415–416.